К 60-летию снятия Блокады
Он родился в другом краю, не у этих могучих гор,
бурных рек, не в этой очаровывающей красоте Кавказа. Родился он в многоликой
разноязычной Полтаве на привольной Украине. Природа одарила его копной
кудрявых смоляных волос, крупным с горбинкой носом, горячими, как уголья,
черными глазами. Эти черты внешности роднили его с местными кавказскими
народами, но что-то во взгляде, покорном и ласковом, в движении мягких
полных губ выдавало его некавказское происхождение.
Взрослел он без отца и без матери, жил с бабушкой,
любившей внука самоотверженно и беззаветно, как могут любить только местечковые
еврейские женщины.
В детстве говорил он так же, как и она, на
своеобразной смеси певучего украинского языка и русского с неистребимым
еврейским акцентом. В юности, уехав учиться в Москву, он утратил этот говорок
украинского местечка и научился говорить по-русски правильно и чисто.
Был Григорий сильным красивым парнем. И вот
однажды, увидев могучие горы, влюбился и остался среди этих людей, так
похожих и так непохожих на него.
Влюбился он, конечно, не только в эти горы,
но прежде всего в красавицу Карине, дочь местного горца. Ей он тоже понравился,
и после недолгого сопротивления ее отца молодые люди соединили свои судьбы.
Григорий полюбил этот народ, выучил их язык, обычаи, а главное научился
печь! Печь Лаваш!
Кто не знает этот хлеб Кавказа! Эту большую
белую лепешку сдобную с румяной корочкой. Разламывая свежеиспеченный лаваш,
он часто вспоминал белый хлеб родной Украины. Ребенком он любил смотреть,
как соседка тетя Нюра, прижимая каравай белого поджаристого хлеба к своей
пышной груди, отрезала ножом большие овальные ломти и клала их на чистую
расшитую салфетку. Запах свежего хлеба кружил голову, во рту набегала слюна.
Хлеб и молоко были сладостными воспоминаниями его довоенного детства.
А еще вспоминались ему голодные страшные дни
и ночи, проведенные то на чердаке, то в чулане, то под кроватью у той же
соседки тети Нюры, которая спасала у себя всю еврейскую семью чернявого
соседского мальчонки от страшной злой доли, постигшей всех его соплеменников,
погибших на оккупированной немцами Украине.
Они тогда все вместе дрожали, голодали, но
в живых остались только он и его бабушка – сильная, крепкая, еще не старая
женщина. Сын ее, отец Григория, пропал без вести на войне, а невестка,
мать Григория, не пережила ужасов и лишений того времени. Бабушка заменила
внуку всю семью, вырастила его и пустила в жизнь.
Печь Лаваш научил Григория старик-кавказец. Все
звали его как-то странно: не то Отто, не то Ато. Так в начале их знакомства
показалось Григорию. Потом он узнал, что это вовсе не имя, а что-то вроде
прозвища. Как точно звали старика, никто не знал. Просто он часто, а порой
без особой надобности повторял сочетание слов а то. То ли вопросом,
то ли ответом были эти слова. Сам себя величал старик Давидом, хотя и не
знал он своего имени, не помнил, как и не помнил он всей своей прежней
жизни. Привела Давида в это селение старая женщина-горянка. Она подобрала
изувеченного молодого солдата умирающим в глубоком ущелье, после страшного
боя еще во время войны.
В живых тогда не осталось никого, да и этот
был не жилец. Но сердце у парня было крепким, а добротой и знанием всяких
народных средств горянки так сильны, что солдат выжил, окреп и встал на
ноги.
Но раны и ожоги так изуродовали лицо молодого
человека, что смотреть на него без содрогания было невозможно. На одной
щеке, изрезанной страшными шрамами, чудом сохранился глаз. Плохо видящий,
он выглядывал из узкой щелочки сросшихся остатков век. Другая сторона лица
была сильно обожжена и светила пергаментом неживой кожи. Но зато глаз на
этой щеке был ясным и, казалось, горел огнем. Каким-то чудом сохранились
лоб и губы. И, так как уголки губ смотрели в разные стороны, один – вверх,
другой – вниз, казалось, что на лице его стоит постоянная горестная улыбка:
одной стороной лица он будто улыбался, другой – плакал.
Потеряв в том страшном бою свое лицо, Давид
полностью потерял и память. Ни кто он, ни откуда родом, ни кто и где его
родные он не помнил. Добрая женщина научила Давида всему, что умела сама:
готовить еду, стирать белье, ухаживать за козой, единственной ее кормилицей,
а главное – лечить людей травами и печь чудесный ароматный Лаваш!
Несмотря на свою увечность Давид, казалось,
со всеми делами справлялся легко и быстро. Зеленые травы, высокие горы,
каменистые плато стали его второй, но единственно родной и горячо любимой
землей. К людям в селение, пока жива была его спасительница, приходил он
редко. Не хотел пугать их своим видом, но, когда не стало его тети Кето,
сделалось Давиду так одиноко, что оставил он дом в горах и пришел жить
в село. Сначала его сторонились, даже побаивались. Но доброта, незлобивость,
умение помочь в нужный час советом, лекарством из собранных им трав, а
главное – хлеб, который он выпекал так ловко и вкусно (знала бабушка Кето
особый рецепт) привлекли к нему и больших и маленьких жителей поселка.
Когда Григорий познакомился с Давидом, тот был
уже довольно стар, и чем-то Григорий так понравился старику, что тот взялся
передать парню свое умение в выпечке хлеба.
Однажды, когда Григорий, взяв хлеб из рук
Давида, с удовольствием отломил кусок еще горячего 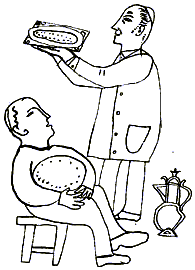 лаваша,
Давид как-то особенно посмотрел на руки парня и сказал тихо: “Хочешь, сынок,
я научу тебя выпекать такой хлеб?” В этот момент Давид был похож на какую-то
птицу. Его горящий глаз часто-часто моргал, горбатый нос опустился книзу,
и было видно, что ему почему-то очень хочется получить от этого кудрявого
и такого же горбоносого парня положительный ответ. Григорий с радостью
согласился.
лаваша,
Давид как-то особенно посмотрел на руки парня и сказал тихо: “Хочешь, сынок,
я научу тебя выпекать такой хлеб?” В этот момент Давид был похож на какую-то
птицу. Его горящий глаз часто-часто моргал, горбатый нос опустился книзу,
и было видно, что ему почему-то очень хочется получить от этого кудрявого
и такого же горбоносого парня положительный ответ. Григорий с радостью
согласился.
Тогда он еще не определился с работой на селе,
и предложение старика пришлось ему по душе. Он довольно быстро обучился
рецептам и секретам Давида, чем очень того радовал.
Жизнь текла своим чередом. Григорий стал мастером
не хуже самого Ато. Старик всегда говорил с ним вежливо и называл только
полным именем Григорий. В его устах это имя звучало как-то величественно
и гордо.
В доме Григория уже подрастали две дочери.
Сам он много работал, и теперь, когда сельчане спрашивали его о свежести
хлеба, Григорий, как и Давид, отвечал: “А то”.
Только раз приезжала к нему бабушка познакомиться
с правнучками, но вскоре ее не стало.
Дружба Григория и Давида становилась все крепче
и теснее. Старик таял, когда девочки называли его дедушкой. В такие минуты
казалось, что его лицо смеется и плачет одновременно, когда в речи Давида
вдруг проскальзывали какие-то с детства знакомые Григорию отдельные словечки,
которые говорила еще его бабушка. Григорий очень смеялся, но старика ни
о чем не спрашивал. Тот бы все равно не смог ответить, откуда он их знает,
кто и когда так говорил с ним. Эти слова всплывали из его неосознанной
памяти о той другой, его довоенной жизни.
Годы шли. Здоровье, подорванное войной, слабело
и наконец Ато слег не в силах подняться и помогать Григорию.
Умер Давид тихо и незаметно, как и жил. Многого
старик не нажил. Все, что он зарабатывал, Давид отдавал хозяйке за комнату,
где жил, ее детишкам, делал подарки девочкам Григория и другим детишкам
поселка.
После похорон Григорий зашел в комнату старика,
чтобы прибрать оставшиеся кое- какие его вещи в маленький чемоданчик, который
всегда стоял у того под кроватью. Давид никому не показывал содержимое
этого чемоданчика, да и что там могло быть важного у этого одинокого и
безродного человека.
Григорий с тяжелым сердцем открыл чемоданчик
и увидел, что с такой тщательностью хранил Давид. Там был старый, истлевший
от крови китель и несколько обрывков листков каких-то писем, которые, видимо,
были в кармане этого кителя на нем в том последнем страшном бою. Ни начала,
ни конца у этих писем не было. Григорий пробежал глазами по выцветшим строчкам.
В одном кто-то писал, что у них все хорошо,
все живы-здоровы, чтоб он не беспокоился за них и  берег
себя, чтобы бил врагов за них и за всех родных. Далее разобрать стершиеся
слова было невозможно. В другом обрывке, написанным уже другим почерком
было видно всего несколько слов: “Они погибли все”.
берег
себя, чтобы бил врагов за них и за всех родных. Далее разобрать стершиеся
слова было невозможно. В другом обрывке, написанным уже другим почерком
было видно всего несколько слов: “Они погибли все”.
Григорий понял, почему Давид хранил эти обрывки.
Эти несколько слов соединяли его душу с той другой жизнью, которую он забыл,
но все время пытался вспомнить, найти свои корни.
Боль за этого человека, ставшего ему таким
близким, обожгла сердце Григория. Невольно он прижал к груди старый китель,
и судорога подкатила к горлу.
Вдруг на полу Григорий увидел маленькую карточку,
видимо, выпавшую из кителя. Он поднял ее и прочел надпись: “Моя семья.
1941 г., майские праздники, любящие тебя жена и родные”. Он повернул карточку
и... вздох, похожий на вой вырвался из его груди! Григорий увидел свою
мать, молодую, улыбающуюся, отца, высокого, черноволосого красивого еврея
с горбатым носом и горящими смеющимися глазами, бабушку, милую родную бабушку,
и себя совсем маленьким у нее на руках. Такую же фотографию она бережно
всегда хранила около себя на тумбочке у кровати.
Григорий закачался, опустился на колени и
замер.
Только губы повторяли: “Ато, Ато, отец!”