 скрипучая
и старая, особенно когда вспоминаю о своей казни, что так и замерла, в
мутной раме соборного окна, как накипь, бликами повисла на стенах, подсвечниках
и иконах, но мало кто сможет рассмотреть спрятанное самим солнцем, когда
оно приходит, выставляя напоказ вещи и людей, а потом вдруг смилостивится,
даст краткий миг, чтобы спрятаться, но сейчас же в нем поселятся черви-убийцы,
они таятся во всех углах, забирая чужие жизни и отдавая их Б-гу – сатрапы,
о них ей страшно думать, она, забившись в шкаф, закрывала двери, ощущала
се6я маленькой девочкой, пытаясь услышать возню мышей, и еще больше испугаться,
но кругом была тишина, рассеянная в темноте и незаметная для Луизиных глаз,
но маленькими каплями ползущая по телу, как гусеница, раздражала и побуждала
отмахиваться от минут и мигов, ведь тишина – это время, собравшееся в закоулках,
чтобы тревожить наше тело, когда оно, наполняясь страхом, прячется от луны
и солнца, сославшись на бессилие, внезапно поселившееся в нем, но это нежелание
умирать вместе со временем, особенно когда оно, так забавляясь, слепо следуя
за тобой и не имея очертаний тени, слепо следует за тобой, как тень,
касается твоего тела, ты пугаешься, Луиза, прячешься в тишину, но тот,
кто не существует, проникает везде и там настигает тебя, ибо негде тебе,
телесному существу, укрыться, утратившему свою свободу, изнеможенному облаку,
которое не любишь, потому что оно мчится, сочетаясь с другими по желанию
глаз и теряясь в них, как только взгляд замешкается, и потому Луиза нe
устремляет больше свой взор во след бегущим всяким там облакам и сонно
задвигает штору, как только они начинают напрашиваться к окнам, иногда
полураскрытым, иногда разбитым случайным лучом неповоротливого солнцевзгляда,
смешно стонущего при виде Луизы, словно она его недосягаемая возлюбленная,
живущая в тюрьме (обитель – всегда тюрьма), куда никому не проникнуть,
и потому они толпятся у стен, согревая их, но ее тепло тонет в толще камней,
скрипучая
и старая, особенно когда вспоминаю о своей казни, что так и замерла, в
мутной раме соборного окна, как накипь, бликами повисла на стенах, подсвечниках
и иконах, но мало кто сможет рассмотреть спрятанное самим солнцем, когда
оно приходит, выставляя напоказ вещи и людей, а потом вдруг смилостивится,
даст краткий миг, чтобы спрятаться, но сейчас же в нем поселятся черви-убийцы,
они таятся во всех углах, забирая чужие жизни и отдавая их Б-гу – сатрапы,
о них ей страшно думать, она, забившись в шкаф, закрывала двери, ощущала
се6я маленькой девочкой, пытаясь услышать возню мышей, и еще больше испугаться,
но кругом была тишина, рассеянная в темноте и незаметная для Луизиных глаз,
но маленькими каплями ползущая по телу, как гусеница, раздражала и побуждала
отмахиваться от минут и мигов, ведь тишина – это время, собравшееся в закоулках,
чтобы тревожить наше тело, когда оно, наполняясь страхом, прячется от луны
и солнца, сославшись на бессилие, внезапно поселившееся в нем, но это нежелание
умирать вместе со временем, особенно когда оно, так забавляясь, слепо следуя
за тобой и не имея очертаний тени, слепо следует за тобой, как тень,
касается твоего тела, ты пугаешься, Луиза, прячешься в тишину, но тот,
кто не существует, проникает везде и там настигает тебя, ибо негде тебе,
телесному существу, укрыться, утратившему свою свободу, изнеможенному облаку,
которое не любишь, потому что оно мчится, сочетаясь с другими по желанию
глаз и теряясь в них, как только взгляд замешкается, и потому Луиза нe
устремляет больше свой взор во след бегущим всяким там облакам и сонно
задвигает штору, как только они начинают напрашиваться к окнам, иногда
полураскрытым, иногда разбитым случайным лучом неповоротливого солнцевзгляда,
смешно стонущего при виде Луизы, словно она его недосягаемая возлюбленная,
живущая в тюрьме (обитель – всегда тюрьма), куда никому не проникнуть,
и потому они толпятся у стен, согревая их, но ее тепло тонет в толще камней,
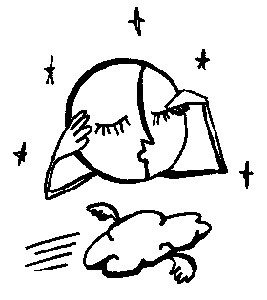 так и не достигая их тел, заточенных в представлениях ночи о ночи, лишенной
собственных глаз, которые указывают на созерцания, погруженные во тьму,
где предметы размыты, и ходишь уже не в темноте, а среди них – людей-вещей,
вне собственных граней, как будто их унесла волна и размыла, скрывая от
глаз очертания или предначертанное им нашим взором с тобой, Луиза, любящим
не узнавать вещи и их облик, а придумывать его в одночасье вместе с Луизиными
снами, которые ей не снились, потому что она запрещала им это непристойное
удовольствие совершать в этой комнате, где обычное посещение обставлено
так, словно ночь пришла навсегда, где ждали только ее и даже не хотели,
чтобы она уходила на следующее утро, обзывая ее блудницей только за то,
то Б-г предписал ей странствие, напрасно, ибо это возмущало Луизу больше
всего – Б-жьи приказы, но преднаказанное как лабиринт – книга на столе,
раскрытая на последней странице и не прочитанная сначала в спешке, лежала
уставшим квадратом, оттененным цветом заглядывающих в окно лилий, лишенных
голоса, но не Луизой, а природой, не ее мыслями, а скрытыми в ней лепестками,
вымысел царствует в ней, как пристальный взгляд, сужаясь и бросая в окно
тень от взгляда и мыслей, завершенных как угол дома, за которым, возможно,
небытие или ручей бьется о берега, как застенки, возвращающие в воспоминанья
будущего, где, возможно, меньше тайн, чем в прошлых днях, которые нам не
догнать, потому что удаляются они все быстрее, медленнее и медленнее, да
так, что уже настигаешь их, и вдруг они убегают из твоих рук, накрывающих
их, как туманом вожделения, но дни тоже устают, и тогда ты все же входишь
в них, в прошлые дни – воспоминаньем – усладная жизнь – как притяженье,
изощренно тающее от прикосновений и изгоняющее тревогу, и тогда чувствуешь
вкус утра – притворный, горький, в котором затих Луизин образ, оставленный
кем-то на столе, на веранде, а кто-то другой бросил его на пол, уронил
его там, но он не разбился, а разлился вдоль плоскости отраженья в окнах,
что загораживали вход внутрь тонкой прозрачной тканью, через глаза – шар
поглощенья предметов-вещей во вселенной, наполненной вожделением богини,
тоскующей у окна, с плотью, украшенной цветами и головой, наполненной мыслями
о казни, почти умершею рукой касалась неясных страхов Луизы в тихой ночи
с манящим криком, шедшая по улице, блистая взором, спрятанным в замерших
каплях ветра, часто вспоминая ее, и она часто вспоминала (Луиза) о своей
казни, отчаянно и безлико засыпая во всех углах, согнувшись в каморке под
лестницей, избегая звуков, где взгляд наталкивался на стены и израненный
возвращался во внутренний мир – глупый странник, запирался там, желая вечного
покоя внутри Луизы, которая спрашивала его: зачем? – и в ней слова не произносятся
напрасно, но она не знает, что везде, где происходит сочленение звуков,
– музыка – может быть, днем они же слышимы, не правда ли, Александр? –
она заметила этого уже давно умершего ребенка у себя на коленях, но уже
состарившегося сразу же, как только она произнесла его имя – и, прежде
чем она
так и не достигая их тел, заточенных в представлениях ночи о ночи, лишенной
собственных глаз, которые указывают на созерцания, погруженные во тьму,
где предметы размыты, и ходишь уже не в темноте, а среди них – людей-вещей,
вне собственных граней, как будто их унесла волна и размыла, скрывая от
глаз очертания или предначертанное им нашим взором с тобой, Луиза, любящим
не узнавать вещи и их облик, а придумывать его в одночасье вместе с Луизиными
снами, которые ей не снились, потому что она запрещала им это непристойное
удовольствие совершать в этой комнате, где обычное посещение обставлено
так, словно ночь пришла навсегда, где ждали только ее и даже не хотели,
чтобы она уходила на следующее утро, обзывая ее блудницей только за то,
то Б-г предписал ей странствие, напрасно, ибо это возмущало Луизу больше
всего – Б-жьи приказы, но преднаказанное как лабиринт – книга на столе,
раскрытая на последней странице и не прочитанная сначала в спешке, лежала
уставшим квадратом, оттененным цветом заглядывающих в окно лилий, лишенных
голоса, но не Луизой, а природой, не ее мыслями, а скрытыми в ней лепестками,
вымысел царствует в ней, как пристальный взгляд, сужаясь и бросая в окно
тень от взгляда и мыслей, завершенных как угол дома, за которым, возможно,
небытие или ручей бьется о берега, как застенки, возвращающие в воспоминанья
будущего, где, возможно, меньше тайн, чем в прошлых днях, которые нам не
догнать, потому что удаляются они все быстрее, медленнее и медленнее, да
так, что уже настигаешь их, и вдруг они убегают из твоих рук, накрывающих
их, как туманом вожделения, но дни тоже устают, и тогда ты все же входишь
в них, в прошлые дни – воспоминаньем – усладная жизнь – как притяженье,
изощренно тающее от прикосновений и изгоняющее тревогу, и тогда чувствуешь
вкус утра – притворный, горький, в котором затих Луизин образ, оставленный
кем-то на столе, на веранде, а кто-то другой бросил его на пол, уронил
его там, но он не разбился, а разлился вдоль плоскости отраженья в окнах,
что загораживали вход внутрь тонкой прозрачной тканью, через глаза – шар
поглощенья предметов-вещей во вселенной, наполненной вожделением богини,
тоскующей у окна, с плотью, украшенной цветами и головой, наполненной мыслями
о казни, почти умершею рукой касалась неясных страхов Луизы в тихой ночи
с манящим криком, шедшая по улице, блистая взором, спрятанным в замерших
каплях ветра, часто вспоминая ее, и она часто вспоминала (Луиза) о своей
казни, отчаянно и безлико засыпая во всех углах, согнувшись в каморке под
лестницей, избегая звуков, где взгляд наталкивался на стены и израненный
возвращался во внутренний мир – глупый странник, запирался там, желая вечного
покоя внутри Луизы, которая спрашивала его: зачем? – и в ней слова не произносятся
напрасно, но она не знает, что везде, где происходит сочленение звуков,
– музыка – может быть, днем они же слышимы, не правда ли, Александр? –
она заметила этого уже давно умершего ребенка у себя на коленях, но уже
состарившегося сразу же, как только она произнесла его имя – и, прежде
чем она  обернулась
к горящей лампе, а потом лениво понесла глаза к нему обратно, он исчез,
оставив ощущение тяжести на ногах. Она опечалилась – запретное чувство
– нельзя о нем говорить и произносить его, посетовала, что время быстрее
взгляда, что нельзя жить одинаково, ведь Луиза мечтала умереть много раз
в своей жизни и много раз в чужой, все же невозможное рядом кружится, отдаляясь,
и вместе с ним и ты – она задувает ущемленный пальчик, скрываешь его во
мгле, да, Луиза? – где холоднее, скребешься им во тьму, когда вдруг за
спиной, пока ты спишь и не видишь, расцветают цветы и кто-то целует их,
а кто-то проходит мимо, занюхавшись и оторопев от увиденной сонной Луизы,
забыв взгляд рядом с ее телом и, натыкаясь без него на стулья, которые
кто-то разбросал в кустах, в лесу и даже в поле на Луизином платье, и дальше,
и дальше, и все дальше, наконец скрывшись и, натыкаясь, уходит, гремя длиннополой
шляпой о деревья, как криком совы, отчего она повернулась на другой бок,
а он снова оказался за ее спиной, этот звук, вдруг замолчавший и разбудивший
Луизу невольным шагом... и ушел, и не хотел, чтобы кто-то подумал о ней,
которая снова ничего не захочет, помимо слов, упавших на траву, и образов,
вспорхнувших с предметов в ленивую желтизну, которая тоже мерещится, падает
за днями, так и не забыв столпотворения, структурированного на кончике
языка раздражением рецепторов – этими манипулирующими чувствами, органами
желания, и показывающими, что этот день не перейти ни завтра, ни вчера,
когда шел дождь, Луиза заблудилась на плоской ладони среди тканей руки,
провалилась в линию судьбы и шастала в этой колее до утра, пока окончательно
не ушел вчерашний день и не пришел Александр к себе домой и не вернулся
больше в ее мысли, где она была одна, если не считать того, что она обводила
свои часы карандашом, отчего они прорисовывались, раскрашивали ее существование
замысловатым узором, сцепляющим памятью скользкие мысли, соскальзывающие
в желанья, а затем в действия, превращающие формы в предметы, внезапно
падали вместе со взглядом в узкую полоску горизонта, и она вдруг почувствовала
присутствие себя самой в этом саду среди испуганных скамеек, она так роилась...
и когда вдруг увидела, какая она, испугалась, не узнала себя, сказала,
Б-же, я мужчина, какая ужасная, с пенисом, с этой мерзостью, зачем он мне
– так страшно с ним, спасите, не хочу, но опомнилась: это же не я – мелькнула
в ней мысль, – это же я, – Луиза метнулась от себя и побежала за собой,
она и она неслись по саду, топча тени деревьев, и размышляли: а если я
настигну себя, что будет! (ужас), что будет, а если я настигну меня, то
будет то, о чем я мечтаю. Вдруг Луиза остановилась: почему я бегу за собой?
– и в нее тонкими потоками влилось сексуальное желание, Луиза обернулась
и пошла к себе.
обернулась
к горящей лампе, а потом лениво понесла глаза к нему обратно, он исчез,
оставив ощущение тяжести на ногах. Она опечалилась – запретное чувство
– нельзя о нем говорить и произносить его, посетовала, что время быстрее
взгляда, что нельзя жить одинаково, ведь Луиза мечтала умереть много раз
в своей жизни и много раз в чужой, все же невозможное рядом кружится, отдаляясь,
и вместе с ним и ты – она задувает ущемленный пальчик, скрываешь его во
мгле, да, Луиза? – где холоднее, скребешься им во тьму, когда вдруг за
спиной, пока ты спишь и не видишь, расцветают цветы и кто-то целует их,
а кто-то проходит мимо, занюхавшись и оторопев от увиденной сонной Луизы,
забыв взгляд рядом с ее телом и, натыкаясь без него на стулья, которые
кто-то разбросал в кустах, в лесу и даже в поле на Луизином платье, и дальше,
и дальше, и все дальше, наконец скрывшись и, натыкаясь, уходит, гремя длиннополой
шляпой о деревья, как криком совы, отчего она повернулась на другой бок,
а он снова оказался за ее спиной, этот звук, вдруг замолчавший и разбудивший
Луизу невольным шагом... и ушел, и не хотел, чтобы кто-то подумал о ней,
которая снова ничего не захочет, помимо слов, упавших на траву, и образов,
вспорхнувших с предметов в ленивую желтизну, которая тоже мерещится, падает
за днями, так и не забыв столпотворения, структурированного на кончике
языка раздражением рецепторов – этими манипулирующими чувствами, органами
желания, и показывающими, что этот день не перейти ни завтра, ни вчера,
когда шел дождь, Луиза заблудилась на плоской ладони среди тканей руки,
провалилась в линию судьбы и шастала в этой колее до утра, пока окончательно
не ушел вчерашний день и не пришел Александр к себе домой и не вернулся
больше в ее мысли, где она была одна, если не считать того, что она обводила
свои часы карандашом, отчего они прорисовывались, раскрашивали ее существование
замысловатым узором, сцепляющим памятью скользкие мысли, соскальзывающие
в желанья, а затем в действия, превращающие формы в предметы, внезапно
падали вместе со взглядом в узкую полоску горизонта, и она вдруг почувствовала
присутствие себя самой в этом саду среди испуганных скамеек, она так роилась...
и когда вдруг увидела, какая она, испугалась, не узнала себя, сказала,
Б-же, я мужчина, какая ужасная, с пенисом, с этой мерзостью, зачем он мне
– так страшно с ним, спасите, не хочу, но опомнилась: это же не я – мелькнула
в ней мысль, – это же я, – Луиза метнулась от себя и побежала за собой,
она и она неслись по саду, топча тени деревьев, и размышляли: а если я
настигну себя, что будет! (ужас), что будет, а если я настигну меня, то
будет то, о чем я мечтаю. Вдруг Луиза остановилась: почему я бегу за собой?
– и в нее тонкими потоками влилось сексуальное желание, Луиза обернулась
и пошла к себе.
Испугалось я, метнулось в кусты, спряталось за дерево, задрожало: Б-же, что ей нужно?